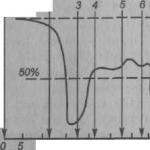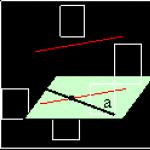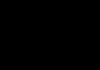В повести "Записки институтки " Нина умирает от болезни,что передалась ей через маму.
В культуре
Марина Цветаева посвятила главной героине повести стихотворениеПАМЯТИ НИНЫ ДЖАВАХА
Всему внимая чутким ухом,
- Так недоступна! Так нежна! -
Она была лицом и духом
Во всем джигитка и княжна.Ей все казались странно-грубы:
Скрывая взор в тени углов,
Она без слов кривила губы
И ночью плакала без слов.Бледнея гасли в небе зори,
Темнел огромный дортуар;
Ей снилось розовое Гори
В тени развесистых чинар…Ах, не растет маслины ветка
Вдали от склона, где цвела!
И вот весной раскрылась клетка,
Метнулись в небо два крыла.Как восковые - ручки, лобик,
На бледном личике - вопрос.
Тонул нарядно-белый гробик
В волнах душистых тубероз.Умолкло сердце, что боролось…
Вокруг лампады, образа…
А был красив гортанный голос!
А были пламенны глаза!Смерть окончанье - лишь рассказа,
За гробом радость глубока.
Да будет девочке с Кавказа
Земля холодная легка!Порвалась тоненькая нитка,
Испепелив, угас пожар…
Спи с миром, пленница-джигитка,
Спи с миром, крошка-сазандар.Как наши радости убоги
Душе, что мукой зажжена!
О да, тебя любили боги,
Светло-надменная княжна!
(Вечерний альбом , 1910)
Главные герои
- Нина Джаваха-оглы-Джамата
- Георгий(отец Нины)
- Юлико (двоюродный брат Нины Джаваха-оглы-Джамата)
- Хаджи-Магомед (дедушка)
- Бэлла (тётя)
- Абрек (разбойник, укравший Шалого)
- Магома (спаситель Нины)
- Княгиня Елена Борисовна Джаваха (бабушка Нины)
- Люда Влассовская (лучшая подруга)
- Лунная фея Ирэн (Ирина Трахтенберг)
- Крошка (Лидочка Маркова)
- Раиса Бельская (Разбойник)
- Краснушка(Маруся Запольская)
- Мать(деда)(мама Нины Джаваха-оглы-Джамата)
Напишите отзыв о статье "Княжна Джаваха"
Примечания
Отрывок, характеризующий Княжна Джаваха
– Я должен вам сказать, я не верю, не… верю в Бога, – с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.
– Да, вы не знаете Его, государь мой, – сказал масон. – Вы не можете знать Его. Вы не знаете Его, оттого вы и несчастны.
– Да, да, я несчастен, подтвердил Пьер; – но что ж мне делать?
– Вы не знаете Его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете Его, а Он здесь, Он во мне. Он в моих словах, Он в тебе, и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас! – строгим дрожащим голосом сказал масон.
Он помолчал и вздохнул, видимо стараясь успокоиться.
– Ежели бы Его не было, – сказал он тихо, – мы бы с вами не говорили о Нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? – вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. – Кто Его выдумал, ежели Его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?… – Он остановился и долго молчал.
Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.
– Он есть, но понять Его трудно, – заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. – Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу всё всемогущество, всю вечность, всю благость Его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать Его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? – Он помолчал. – Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, – сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, – а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать Его трудно… Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании Его мы видим только нашу слабость и Его величие… – Пьер, с замиранием сердца, блестящими глазами глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим, старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона, и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью; – но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.
– Он не постигается умом, а постигается жизнью, – сказал масон.
– Я не понимаю, – сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. – Я не понимаю, – сказал он, – каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите.
Масон улыбнулся своей кроткой, отеческой улыбкой.
– Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя, – сказал он. – Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу.
К княжне Зизи в обществе относятся с предубеждением. Ее имя часто повторялось в гостиной моего опекуна. Компаньонка тётушки, небогатая вдова Мария Ивановна, рассказала ее историю.
Княжна Зизи жила вместе с маменькой и старшей сестрой Лидией. Старая княгиня все время болела, И княжна в письмах к Маше постоянно жаловалась на скуку. Летом ещё выезжали в Симонов монастырь, а зимой - хоть плачь. Одно утешение было у княжны - читать книги. Она читала всего Карамзина, читала «Клариссу», которую маменька накрепко запирала в шкап, весь «Вестник Европы»... Более же всего приглянулись ей чудесные стихи Жуковского и Пушкина.
Между тем старая княгиня случайно познакомилась с молодым человеком, очень приятным и обходительным. Владимир Лукьянович Городков стал бывать в доме, даже развеселил княгиню, и она съездила с дочерьми в Гостиный двор. Но затем княжне снова пришлось страдать. Матушка постоянно отсылала ее из гостиной под разными предлогами, как только Городков появлялся. Как же горько было княжне сидеть наверху по приказу матери, пока Городков, весёлый, смешливый, занимает маменьку с Лидией. Наконец Зизи поняла: мать хочет, чтобы Лидия, как старшая, вышла замуж раньше. И ещё: что сама она давно и страстно влюбилась во Владимира Лукьяновича. В день помолвки княжне стало дурно, и даже пришлось вызывать доктора А вскоре после свадьбы умерла мать, взявши с Зизи слово заботиться о Лидии и ее детях. Так и вышло. Всем хозяйством в доме заправляла Зизи. Она заботилась обо всех житейских мелочах, о домашнем уюте, об удобствах Городкова Она почти самовластно управлялась с хозяйством и слугами - сестра в это не вникала. Зато в доме был порядок, и Городков был всем доволен. По вечерам он даже отдавал отчёт Зинаиде в управлении имением.
День ото дня привязанность Зизи к Городкову возрастала. С бьющимся сердцем и с холодной решимостью уходила Зизи после вечерних бесед в свою комнату и бросалась на свою постель. Когда у Лидии родилась дочка, Зизи посвятила себя служению племяннице. Но вот как-то старая приятельница Зизи, Мария Ивановна, отправила к ней письмо из Казани со своим знакомым Радецким, ехавшим в Москву. Это был приличный молодой человек, недурной собою, не без состояния, он писал стихи и обладал характером романтическим. Радецкий влюбился без памяти в Зинаиду. Он стал бывать в доме почти каждый день, разговаривал с княжной подолгу и обо всем. Но как-то случайно Радецкий поссорился с Городковым, и ему отказали от дома Когда бы он ни приехал - хозяев нету. Случай помог ему: княжна пошла в церковь, и слуги, задобренные полтинниками, сказали, где ее искать. Радецкий действительно нашёл Зизи в полутёмной церкви за столбом. Она стояла на коленях и горячо молилась. На ее лице были слезы. И трудно было поверить, что это - только от одной набожности. Нет, тайная скорбь выражалась в ней несомненно. Влюблённый юноша остановил княжну после службы, заговорил с ней и признался в своих чувствах.
Казалось, сам вечер, тихий, безмятежный, последние лучи солнца, озаряющие лицо княжны, располагали к откровенности. Княжна задумалась над словами молодого человека, над его признанием. Вероятно, в глубине души она и сама чувствовала себя несчастной. Княжна не дала решительного ответа, но обещала через несколько часов прислать домой к нему записку. Не прошло и получаса, как он получил письмо с согласием и пожеланием совершить брак как можно скорее. Радецкий уже хотел чуть свет хлопотать о венчании, чтобы завтра же совершить брак. Но вдруг приходит новое письмо от княжны с извинениями, что она не любит его и не может стать его женой. Радецкий тут же уехал. Но он подозревал, что решение княжны было принято не без участия Городкова, которого она боготворила, а он считал злым гением своей возлюбленной. Дело же было так. Когда княжна, бледная и трепещущая, решилась объявить Лидии и ее мужу о том, что выходит замуж, ее сестра захохотала, а Городков побледнел. После того он пришёл к Зинаиде как бы для того, чтобы позаботиться о ее имении, о ее приданом. Княжна начала с жаром ото всего отказываться... Городков с усилием сказал, что это было бы неприлично, что сама княжна об этом пожалеет... и потом новая привязанность вытеснит прежние... Это был намёк на тёплые отношения между Городковым и княжной, установившиеся в последнее время. Городков называл ее единственным другом, настоящей матерью Пашеньки. Вспомнить все это в ту минуту, когда она решилась было выйти замуж, покинуть этот дом, этого мужчину - единственного, кого она любила - и не имела права любить... Все это было выше ее сил. На другой день утром она отказала Радецкому.
Но тут новое происшествие потребовало всех сил и всего мужества княжны. Лидия была снова беременна. Но она продолжала, несмотря на советы врачей, ездить на балы и танцевать. Наконец она заболела. Доктора созвали консилиум. Лидия выкинула, и состояние ее сделалось весьма опасным. Она чувствовала, что ей недолго осталось жить. Иногда она просила Зинаиду стать женой Городкова после ее смерти. Иногда же на неё находила ревность, и она обвиняла мужа и Зинаиду в том, что они только и дожидаются ее смерти. А в это время Мария Ивановна в Казани узнала кое-что о тайных намерениях Городкова и о настоящем положении имения Зизи и Лидии. Она отослала подруге подлинник письма Городкова, из которого следовало, что он продаёт имение частями, задёшево, лишь бы получить деньги наличными. Он хочет получить своё, отдельное - а вместе с тем воспользоваться и второю половиною имения, принадлежащей Зизи... Словом, он думает о себе, а не о Лидии и не о дочке...
Узнав обо всем, княжна прямо с письмом едет к предводителю дворянства. Затем, когда Городкова не было дома, вместе с предводителем и двумя свидетелями она появилась в комнате умирающей Лидии. Лидия подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяно-вичу, а дети сверх того вручались Зинаиде под ее особое попечение.
Неизбежное свершилось - Лидия умерла. Городков заставил Зинаиду съехать из дома, затем очернил в глазах окружающих. Когда прочли завещание, он заявил, что его жена была должна ему сумму большую, чем стоит имение. Он предъявил даже заёмные письма, объясняя, что делает это только затем, чтоб сохранить имение для детей от чужого управления... И опять все плакали и вздыхали только о коварстве интриганки Зинаиды. Опекун упрекал княжну, что она выставила его дураком. Но Зинаида точно знала, что сестра ее не могла брать денег у мужа: Владимиру Лукьяновичу было нечего ей дать. Но доказательств у неё не было. Даже письмо, открывшее ей глаза, она отдала Городкову. Предводитель отказался вести дело. Но Зинаида сама подала в суд о безденежности заёмных писем Лидии. Она видела, что Городков завёл связь с одной безнравственной женщиной, которая вытягивала из него деньги и понуждала повенчаться. Для этого процесса нужны были деньги, поэтому ей пришлось подать вторую просьбу о разделе имения. И наконец третью - о разорении, сделанном Городковым в имении. Все средства были исчерпаны, княжне предстояло публично присягнуть в церкви в истине своих показаний... Но тут снова вмешалось провидение. Городкова разбили лошади. После его смерти девушка вновь обрела свои права над имением и над воспитанием племянницы.
Пересказал
Лидия Алексеевна Чарская
Княжна Джаваха
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НА КАВКАЗЕ
Первые воспоминания. Хаджи-Магомет. Черная роза
Я грузинка. Мое имя Нина - княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата - славный род; он известен всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и Дагестанских гор.
Я родилась в Гори, чудном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной реки Куры.
Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одуряющим запахом красных и белых цветов. А кругом Гори - развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, отдающую чудесным и таинственным преданием старины…
Вдали синеют очертания гор, белеют перловым туманом могучие, недоступные вершины Кавказа - Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока - гигантские серые орлы…
Мои предки - герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.
Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых. Там шла беспрерывная война с полудикими горцами, делавшими постоянные набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор.
Тихие, зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами…
Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз рассылавший сотни и тысячи своих джигитов в христианские селения… Сколько горя, слез и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии…
Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно…
Между русскими вождями, смело выступившими на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья - смелые и храбрые, как горные орлы…
Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей за собою столько храбрых, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди…
Я жалела в такие минуты, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горсти храбрецов по узким тропинкам Дагестана, повисшим над страшными стремнинами…
Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.
Мама моя была простая джигитка из аула Бестуди… В ауле этом поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молодой офицер, был послан с казачьей сотней усмирять его.
Восстание усмирили, но отец мой не скоро уехал из аула…
Там, в сакле старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку - красавицу Марием…
Черные очи и горные песни хорошенькой татарки покорили отца, и он увез Марием в Грузию, где находился его полк.
Там она приняла христианскую веру, против желания разгневанного старика Магомета, и вышла замуж за русского офицера.
Старый татарин долго не мог простить этого поступка своей дочери…
Я начинаю помнить маму очень, очень рано. Когда я ложилась в кроватку, она присаживалась на край ее и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица «деда»!
И голос у нее был нежный и бархатный, как будто нарочно созданный для таких печальных песен… Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими, грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась - казалось, улыбалось небо…
Я обожала ее улыбки, как обожала ее песни… Одну на них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из ущелий Дагестана… Порывом ветра пышную дикую розу снесло в зеленую долину… И роза загрустила и зачахла вдали от своей милой родины… Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее привет в горы…
Несложная песня с простыми словами и еще более простым мотивом, но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица-мать.
Часто, оборвав песню на полуслове, «деда» схватывала меня на руки и, прижимая тесно, тесно к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:
Нина, джаным, любишь ли ты меня?
О, как я любила, как я ее любила, мою ненаглядную деду!..
Когда я становилась рассудительнее, меня все больше и больше поражала печаль ее прекрасных глаз и тоскливых напевов.
Как-то раз, лежа в своей постельке с закрытыми от подступавшей дремоты глазками, я невольно услышала разговор мамы с отцом.
Она смотрела вдаль, на вьющуюся черной змееобразной лентой тропинку, убегающую в горы, и тоскливо шептала:
Нет, сердце мое, не утешай меня, он не приедет!
Успокойся, моя дорогая, он опоздал сегодня, но он будет у нас, непременно будет, - успокаивал ее отец.
Нет, нет, Георгий, не утешай меня… Мулла его не пустит…
Я поняла, что мои родители говорили о деде Хаджи-Магомете, все еще не желавшем простить свою христианку-дочь.
Иногда дед приезжал к нам. Он появлялся всегда внезапно со стороны гор, худой и выносливый, на своем крепком, словно из бронзы вылитом, коне, проведя несколько суток в седле и нисколько не утомляясь длинной дорогой.
Лишь только высокая фигура всадника показывалась вдали, моя мать, оповещенная прислугой, сбегала с кровли, где мы проводили большую часть нашего времени (привычка, занесенная ею из родительского дома), и спешила встретить его за оградой сада, чтобы, по восточному обычаю, подержать ему стремя, пока он сходил с коня.
Наш денщик, старый грузин Михако, принимал лошадь деда, а старик Магомет, едва кивнув головой моей матери, брал меня на руки и нес в дом.
Меня дедушка Магомет любил исключительно. Я его тоже любила, и, несмотря на его суровый и строгий вид, я ничуть его не боялась…
Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь, рылась в карманах его бешмета, где всегда находились для меня разные вкусные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было - и засахаренный миндаль, и кишмиш, и несколько приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные хорошенькой Бэллой - младшей сестренкой моей матери.
Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, - говорил он, приглаживая жесткой и худой рукой мои черные кудри.
И я не заставляла себя долго просить и наедалась до отвалу этих легких и вкусных, словно таявших во рту лакомств.
Лидия Алексеевна Чарская
Княжна Джаваха
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НА КАВКАЗЕ
Первые воспоминания. Хаджи-Магомет. Черная роза
Я грузинка. Мое имя Нина - княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата - славный род; он известен всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и Дагестанских гор.
Я родилась в Гори, чудном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной реки Куры.
Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одуряющим запахом красных и белых цветов. А кругом Гори - развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, отдающую чудесным и таинственным преданием старины…
Вдали синеют очертания гор, белеют перловым туманом могучие, недоступные вершины Кавказа - Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока - гигантские серые орлы…
Мои предки - герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.
Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых. Там шла беспрерывная война с полудикими горцами, делавшими постоянные набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор.
Тихие, зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами…
Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз рассылавший сотни и тысячи своих джигитов в христианские селения… Сколько горя, слез и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии…
Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно…
Между русскими вождями, смело выступившими на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья - смелые и храбрые, как горные орлы…
Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей за собою столько храбрых, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди…
Я жалела в такие минуты, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горсти храбрецов по узким тропинкам Дагестана, повисшим над страшными стремнинами…
Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.
Мама моя была простая джигитка из аула Бестуди… В ауле этом поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молодой офицер, был послан с казачьей сотней усмирять его.
Восстание усмирили, но отец мой не скоро уехал из аула…
Там, в сакле старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку - красавицу Марием…
Черные очи и горные песни хорошенькой татарки покорили отца, и он увез Марием в Грузию, где находился его полк.
Там она приняла христианскую веру, против желания разгневанного старика Магомета, и вышла замуж за русского офицера.
Старый татарин долго не мог простить этого поступка своей дочери…
Я начинаю помнить маму очень, очень рано. Когда я ложилась в кроватку, она присаживалась на край ее и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица «деда»!
И голос у нее был нежный и бархатный, как будто нарочно созданный для таких печальных песен… Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими, грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась - казалось, улыбалось небо…
Я обожала ее улыбки, как обожала ее песни… Одну на них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из ущелий Дагестана… Порывом ветра пышную дикую розу снесло в зеленую долину… И роза загрустила и зачахла вдали от своей милой родины… Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее привет в горы…
Несложная песня с простыми словами и еще более простым мотивом, но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица-мать.
Часто, оборвав песню на полуслове, «деда» схватывала меня на руки и, прижимая тесно, тесно к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:
Нина, джаным, любишь ли ты меня?
О, как я любила, как я ее любила, мою ненаглядную деду!..
Когда я становилась рассудительнее, меня все больше и больше поражала печаль ее прекрасных глаз и тоскливых напевов.
Как-то раз, лежа в своей постельке с закрытыми от подступавшей дремоты глазками, я невольно услышала разговор мамы с отцом.
Она смотрела вдаль, на вьющуюся черной змееобразной лентой тропинку, убегающую в горы, и тоскливо шептала:
Нет, сердце мое, не утешай меня, он не приедет!
Успокойся, моя дорогая, он опоздал сегодня, но он будет у нас, непременно будет, - успокаивал ее отец.
Нет, нет, Георгий, не утешай меня… Мулла его не пустит…
Я поняла, что мои родители говорили о деде Хаджи-Магомете, все еще не желавшем простить свою христианку-дочь.
Иногда дед приезжал к нам. Он появлялся всегда внезапно со стороны гор, худой и выносливый, на своем крепком, словно из бронзы вылитом, коне, проведя несколько суток в седле и нисколько не утомляясь длинной дорогой.
Лишь только высокая фигура всадника показывалась вдали, моя мать, оповещенная прислугой, сбегала с кровли, где мы проводили большую часть нашего времени (привычка, занесенная ею из родительского дома), и спешила встретить его за оградой сада, чтобы, по восточному обычаю, подержать ему стремя, пока он сходил с коня.
Наш денщик, старый грузин Михако, принимал лошадь деда, а старик Магомет, едва кивнув головой моей матери, брал меня на руки и нес в дом.
Меня дедушка Магомет любил исключительно. Я его тоже любила, и, несмотря на его суровый и строгий вид, я ничуть его не боялась…
Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь, рылась в карманах его бешмета, где всегда находились для меня разные вкусные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было - и засахаренный миндаль, и кишмиш, и несколько приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные хорошенькой Бэллой - младшей сестренкой моей матери.
Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, - говорил он, приглаживая жесткой и худой рукой мои черные кудри.
И я не заставляла себя долго просить и наедалась до отвалу этих легких и вкусных, словно таявших
Часть первая
НА КАВКАЗЕ
Глава I
Первые воспоминания. Хаджи-Магомет. Черная роза
Я грузинка. Мое имя Нина – княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата – славный род; он известен всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и Дагестанских гор.
Я родилась в Гори, чудном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной реки Куры.
Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одуряющим запахом красных и белых цветов. А кругом Гори – развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, отдающую чудесным и таинственным преданием старины…
Вдали синеют очертания гор, белеют перловым туманом могучие, недоступные вершины Кавказа – Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока – гигантские серые орлы…
Мои предки – герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.
Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых. Там шла беспрерывная война с полудикими горцами, делавшими постоянные набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор.
Тихие, зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами…
Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз рассылавший сотни и тысячи своих джигитов в христианские селения… Сколько горя, слез и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии…
Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно…
Между русскими вождями, смело выступившими на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья – смелые и храбрые, как горные орлы…
Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей за собою столько храбрых, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди…
Я жалела в такие минуты, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горсти храбрецов по узким тропинкам Дагестана, повисшим над страшными стремнинами…
Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.
Мама моя была простая джигитка из аула Бестуди… В ауле этом поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молодой офицер, был послан с казачьей сотней усмирять его.
Восстание усмирили, но отец мой не скоро уехал из аула…
Там, в сакле старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку – красавицу Марием…
Черные очи и горные песни хорошенькой татарки покорили отца, и он увез Марием в Грузию, где находился его полк.
Там она приняла христианскую веру, против желания разгневанного старика Магомета, и вышла замуж за русского офицера.
Старый татарин долго не мог простить этого поступка своей дочери…
Я начинаю помнить маму очень, очень рано. Когда я ложилась в кроватку, она присаживалась на край ее и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица «деда»!
И голос у нее был нежный и бархатный, как будто нарочно созданный для таких печальных песен… Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими, грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась – казалось, улыбалось небо…
Я обожала ее улыбки, как обожала ее песни… Одну на них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из ущелий Дагестана… Порывом ветра пышную дикую розу снесло в зеленую долину… И роза загрустила и зачахла вдали от своей милой родины… Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее привет в горы…
Несложная песня с простыми словами и еще более простым мотивом, но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица-мать.
Часто, оборвав песню на полуслове, «деда» схватывала меня на руки и, прижимая тесно, тесно к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:
– Сакварело, – прошептал еще раз отец и покрыл мое лицо поцелуями. В тяжелые минуты он всегда говорил по-грузински, хотя всю свою жизнь находился между русскими.
– Папа, милый, бесценный папа! – ответила я ему и в первый раз со дня кончины мамы тяжело и горько разрыдалась.
Отец поднял меня на руки и, прижимая к сердцу, говорил мне такие ласковые, такие нежные слова, которыми умеет только дарить чудесный, природой избалованный Восток!
А кругом нас шелестели чинары и соловей начинал свою песню в каштановой роще за горийским кладбищем.
Я ласкалась к отцу, и сердце мое уже не разрывалось тоскою по покойной маме, – оно было полно тихой грусти… Я плакала, но уже не острыми и больными слезами, а какими-то тоскливыми и сладкими, облегчающими мою наболевшую детскую душу…
Потом отец кликнул Михако и велел седлать своего Шалого. Я боялась поверить своему счастью: моя заветная мечта побывать с отцом в горах осуществлялась.
Это была чудная ночь!
Мы ехали с ним, тесно прижавшись друг к другу, в одном седле на спине самой быстрой и нервной лошади в Гори, понимающей своего господина по одному слабому движению повода…
Вдали высокими синими силуэтами виднелись мохнатые горы, внизу бежала засыпающая Кура… Из дальних ущелий поднималась седая дымка тумана и точно вся природа курила нежный фимиам подкрадывавшейся ночи.
– Отец! как хорошо все это! – воскликнула я, заглядывая ему в глаза.
И, вглядевшись пристальнее в его черные, ярко горящие зрачки, я заметила в них две крупные слезы. Должно быть, он вспомнил деду.
– Папа, – тихо произнесла я, как бы боясь нарушить чарующее впечатление ночи, – мы часто будем так ездить с тобою?
– Часто, голубка, часто, моя крошка, – поторопился он ответить и отвернулся от меня, чтобы смахнуть непрошеные слезы.
В первый раз со дня кончины мамы я почувствовала себя снова счастливой. Мы ехали по тропинке, между рядами невысоких гор, в тихой долине Куры… А по берегам реки вырастали по временам в сгущающихся сумерках развалины замков и башен, носивших на себе печать давних и грозных времен.
Но ничего страшного не было теперь в этих полуразрушенных бойницах, откуда давно-давно высовывались медные тела огнедышащих орудий. Глядя на них, я слушала рассказ отца о печальных временах, когда Грузия стонала под игом турок и персов… Что-то билось и клокотало в моей груди… Мне хотелось подвигов – таких подвигов, от которых ахнули бы самые смелые джигиты Закавказья…
Мы только к рассвету вернулись домой… Восходящее солнце заливало бледным пурпуром отдаленные высоты, и они купались в этом розовом море самых нежнейших оттенков. С соседней крыши минарета мулла кричал свою утреннюю молитву… Полусонную снял меня с седла Михако и отнес к Барбале – старой грузинке, жившей в доме отца уже много лет.
Этой ночи я никогда не забуду… После нее я еще горячее привязалась к моему отцу, которого до сих пор немного чуждалась…
Теперь я ежедневно стерегла его возвращение из станицы, где стоял его полк. Он слезал с Шалого и сажал меня в седло… Сначала шагом, потом все быстрее и быстрее шла подо мною лошадь, изредка потряхивая гривой и поворачивая голову назад, как бы спрашивая шедшего за нами отца, как ей вести себя с крошечной всадницей, вцепившейся ей в гриву.
Но какова была моя радость, когда однажды я получила Шалого в мое постоянное владение! Я едва верила моему счастью… Я целовала умную морду лошади, смотрела в ее карие выразительные глаза, называла самыми ласковыми именами, на которые так щедра моя поэтичная родина…
И Шалый, казалось, понимал меня… Он скалил зубы, как бы улыбаясь, и тихо, ласково ржал.
С получением от отца этого неоценимого подарка для меня началась новая жизнь, полная своеобразной прелести.
Каждое утро я совершала небольшие прогулки в окрестностях Гори, то горными тропинками, то низменным берегом Куры… Часто я проезжала городским базаром, гордо восседая на коне, в моем алом атласном бешмете, в белой папахе, лихо заломленной на затылок, похожая скорее на маленького джигита, нежели на княжну славного аристократического рода.
И торгаши-армяне, и хорошенькие грузинки, и маленькие татарчата – все смотрели на меня, разиня рот, удивляясь моему бесстрашию.
Многие из них знали моего отца.
– Здравствуй, княжна Нина Джаваха, – кивали мне они головами и хвалили, к моему огромному удовольствию, и коня, и всадницу.
Но горные тропинки и зеленые долины манили меня куда больше пыльных городских улиц.
Там я была сама себе госпожа. Выпустив поводья и вцепившись в черную гриву моего вороного, я изредка покрикивала: «Айда, Шалый, айда! » – и он несся, как вихрь, не обращая внимания на препятствия, встречающиеся на дороге. Он скакал тем бешеным галопом, от которого захватывает дух и сердце бьется в груди, как подстреленная птичка.
В такие минуты я воображала себя могущественной представительницей амазонок и мне казалось, что за мною гонятся целые полчища неприятелей.
– Айда! айда! – понукала я моего лихого коня, и он ускорял шаг, пугая мирно бродивших по улицам предместий поросят и барашков.
– Дели-акыз! – кричали маленькие татарчата, разбегаясь в стороны, как стадо козлят, при моем приближении к их аулу.
– Шайтан девчонка! – твердили старухи, сердито грозя мне высохшими пальцами и недружелюбно поглядывая на меня из-под седых бровей.
И любо мне было дразнить старух, пугать ребят и нестись вперед и вперед по бесконечной долине между полями, усеянными спелой кукурузой, навстречу теплому горному ветерку и синему небу, манящему к себе своей неизъяснимой прелестью.
Как-то раз, возвращаясь с одной из таких прогулок с тяжелой виноградной лозой в руках, срезанной мною на ходу во время скачки при помощи маленького детского кинжала, подаренного мне отцом, я была поражена необычайным зрелищем.
На нашем дворе стояла коляска, запряженная парою чудесных белых лошадей, а сзади нее крытая арба с сундуками, узлами и чемоданами. У арбы прохаживался старый седой горец с огромными усами и помогал какой-то женщине, тоже старой и сморщенной, снимать узлы и втаскивать их на крыльцо нашего дома.
– Михако, – звонко крикнула я, – что это за люди?
Седой горец и сморщенная старушка посмотрели на меня с чуть заметным насмешливым удивлением.
Потом женщина подошла ко мне и, прикрываясь слегка чадрой от солнца, сказала по-грузински:
– Будь здорова в твоем доме, маленькая княжна.
– Спасибо. Будь гостьей, – ответила я по грузинскому обычаю и перенесла удивленный взгляд на седого горца, лошадей и коляску.
Заметя мое изумление, незнакомая женщина сказала:
– Эти лошади и это имущество – все принадлежит вашей бабушке, княгине Елене Борисовне Джаваха-оглы-Джамата, а мы ее слуги.
– А где же она, бабушка? – вырвалось у меня скорее удивленно, нежели радостно.
– Княгиня там, – и женщина указала по направлению дома.
Соскочить с Шалого, бросить поводья подоспевшему Михако и ураганом ворваться в комнату, где сидел мой отец в обществе высокой и величественной старухи с седою, точно серебряною головою и орлиным взором, было делом одной минуты.
При моем появлении высокая женщина встала с тахты и смерила меня всю долгим и проницательным взглядом. Потом она обратилась к моему отцу с вопросом:
– Это и есть моя внучка, княжна Нина Джаваха?
– Да, мамаша, это моя Нина, – поспешил ответить отец, награждая меня тем взглядом восхищения и ласки, которым я так дорожила.
Но, очевидно, старая княгиня не разделяла его чувства.
В моем алом, нарядном, но не совсем чистом бешмете в голубых, тоже не особенно свежих шальварах, с белой папахой, сбившейся набок, с пылающим, загорелым лицом задорно-смелыми глазами, с черными кудрями, в беспорядке разбросанными вдоль спины, я действительно мало по ходила на благовоспитанную барышню, какою меня представляла, должно быть, бабушка.
– Да она совсем дикая джигитка у тебя, Георгий! – чуть-чуть улыбнувшись в сторону моего отца, проговорила она.
Но я видела по лицу последнего, что он не согласен с бабушкой… Чуть заметная добрая усмешка шевельнула его губы под черными усами – усмешка, которую я у него обожала, и он совсем серьезно спросил:
– А разве это дурно?
– Да, да, надо заняться ее воспитанием, – как-то печально и укоризненно произнесла бабушка, – а то это какой-то мальчишка-горец!
Я вздрогнула от удовольствия. Лучшей похвалы старая княгиня не могла мне сделать. Я считала горцев чем-то особенным. Их храбрость, их выносливость и бесстрашие приводили меня в неистовый восторг, я им стремилась подражать, и втайне досадовала, когда мне это не удавалось.
Между мною и княгиней-бабушкой словно рухнула стена, воздвигнутая ее не совсем любезной встречей; за одно это сравнение я готова была уже полюбить ее и, не отдавая себе отчета в моем поступке, я испустила мой любимый крик «айда» и, прежде чем она успела опомниться, повисла у нее на шее. Вероятно, я совершила что-то очень неблагопристойное по отношению матери моего отца, потому что вслед за моим диким «айда» раздался пронзительный и визгливый голос бабушки:
– Вай-вай! что это за ребенок, да уйми же ты ее, Георгий!
Отец, смущенный немного, но едва сдерживающий улыбку, оторвал меня от шеи старухи и стал выговаривать мне за мою необузданную радость.
Его глаза, однако, смеялись, и я видела, что мой милый красавец-отец вместо выговора хочет крикнуть мне:
«Нина джаным, молодчина – горец. Джигит!» Этим возгласом он всегда поощрял все мои лихие выходки.
Между тем бабушка торопливо приводила в порядок свои седые букли и говорила сердитым голосом:
– Нет, нет, так нельзя, Георгий, ты растишь маленького бесенка… Что из нее выйдет, ведает Бог! Такое воспитание немыслимо. Она ведь княжна старинного знатного рода!.. Наши предки ведут свое начало от самого Богдана IV! Мы царской крови, Георгий, и ты не должен забывать этого. Твой отец был обласкан Государем, я имела честь представляться Императрице, ты получил свое воспитание между лучшими русскими и грузинскими юношами и только в силу своего упрямства ты зарылся здесь, в глуши и не едешь в северную столицу. Мария Джаваха скончалась, – помяни Господь ее душу, – ее происхождение простой джигитки могло повредить тебе и помешать быть на виду, но теперь, когда она мирно спит под крестом, странно и дико не пользоваться дарами, данными тебе богом. Я приехала, сын мой, напомнить тебе об этом.
Я взглянула на говорившую. У нее было сердитое и важное лицо. Потом я встретила взгляд моего отца. Он стал мрачным и суровым, каким я не раз видела его во время гнева. Напоминание о моей покойной деде со стороны ее врага (бабушка не хотела видеть моей матери и никогда не бывала у нас при ее жизни) не растрогало, а скорее рассердило его.
– Матушка, – проговорил он, и глаза его загорелись гневом, – если вы приехали для того, чтобы враждебно говорить о моей бедной Марии, – лучше было бы нам не встречаться!
И он сильно задергал концы своих черных усов, что он делал лишь в минуту большого волнения.
– Успокойся, Георгий, – взволновалась старуха, – я ничем не обижу памяти покойной Марии, но я не могу не сказать, что она не могла быть воспитательницей твоей Нины… Дочь аула, дитя гор, разве она сумела бы сделать из Нины благовоспитанную барышню?
Отец молчал. Замолкла и бабушка, довольная впечатлением, произведенным ее последними словами.
В эту минуту взгляд мой нечаянно упал через раскрытую дверь в соседнюю комнату. Там на тахте лежал мальчик одних лет со мною, но ростом гораздо меньше меня и, кроме того, бледнее и воздушнее.
Он протянул худенькие, немного кривые ноги, с которых старая грузинка, виденная мною на дворе, снимала изящные высокие сапожки… Его хрупкое, некрасивое личико утонуло в массе белокурых волос, падавших на белоснежный кружевной воротничок, надетый поверх коричневой бархатной курточки. Старая грузинка, вместо снятых дорожных сапожек, надевала на его слабые, в черных шелковых чулках, ноги лакированные туфли с пряжками, каких я еще не видывала у нас в Гори.
Он вошел в зал, где мы находились, и остановился у двери, точно сошедший со старинной картины, какие я видела в большом альбоме отца, маленький паж средневековой легенды.
Я успела рассмотреть, что у него, несмотря на пышные белокурые локоны, живой рамой обрамляющие хрупкий продолговатый овал лица, некрасивый, длинный, крючковатый нос и маленькие, узкие, как у полевого мышонка, черные глазки.
– Кто это? – бесцеремонно указывая на крошечного незнакомца пальцем, спросила я.
– Это твой двоюродный брат, князь Юлико Джаваха-оглы-Джамата, последний отпрыск славного рода, – не без некоторой гордости проговорила бабушка. – Познакомьтесь, дети, и будьте друзьями. Вы оба сироты, хотя ты, Нина, счастливее княжича… У него нет ни отца, ни матери… между тем как твой отец так добр к тебе и так тебя балует.
Последние слова бабушки звучали некоторым ехидством.
– Здравствуй! – просто подошла я приветствовать моего двоюродного брата.
Он смерил меня любопытно-величавым взглядом и нерешительно протянул мне свою бледную, сквозящую тонкими голубыми жилками прозрачную руку, всю утопающую в кружеве его великолепных манжет. Я не знала, что мне с нею делать. Очевидно, мой рваный бешмет и запачканные лошадиным потом и пылью шальвары производили на него неприятное впечатление.